примерно так
Энколпион (енколпион; др.-греч. egkolpion нанедренник, наперсник, панагир, панагия) — небольшой ковчежец прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа или святых. Внутри энколпиона помещались частицы освященной просфоры или мощи святых, чтобы охранить человека от различных напастей, особенно в дальних путешествиях или походах.
Массовое производство и широкое бытование крестов-энколпионов в средневековом обществе домонгольской Руси— явление исключительное в мировой историко-культурной практике, сопоставимое по масштабам и разнообразию лишь с культовым литьем сиро-палестинского круга, лежащим в основе этой традиции. Зародившаяся, вероятно, у истоков культа Честного Креста, практика изготовления меднолитых крестов-реликвариев для паломников получила развитие во многих регионах восточно-христианского мира. В Малой Азии, по-видимому параллельно, если не ранее, создавались кресты-мощевики при монастырях и мартириях святых. На Балканах и Дунае новообращенные христиане на основе восточно-средиземноморских образцов, иконографические типы которых сложились еще в доиконоборческие времена (VI— VII вв.), вырабатывали местные, зачастую упрощенные варианты крестов-реликвариев. Восстановление этой традиции связывается с возрождением деятельности в X—XII вв. мелькитских культурных центров. И только в Древней Руси складывается новое самостоятельное направление в развитии этого ярчайшего пласта культового литья
На подавляющем большинстве древнерусских крестов-энколпионов на лицевой створке изображается Распятие Христово, прославляющее искупительную жертву Христа, на оборотной — Богоматерь с евангелистами или святыми воинами, апостолами, творцами литургии, вместе являющими собой образ Христовой церкви. Эти лицевые изображения можно рассматривать и как образное изложение основ христианского вероучения, и, одновременно, как указание на содержащиеся внутри реликвии. Византийские кресты-энколпионы с анало1 В Византии энколпионами называли носимые на груди предметы различной формы (медальон, крест, коробочка) с реликвиями или надписью-молитвой, служившие их владельцам фалактериями (оберегами). Примеры употребления этого названия византийскими авторами XI—XII вв. гичной композицией, но выполненные из драгоценных материалов и в сложной технике, иногда с надписями, сообщающими о вложенных в них реликвиях, предназначались для частиц Крестного древа Христа — главной святыни христианской церкви Об этом, в частности, свидетельствует их устройство— характерный для ставротек вложенный внутрь дополнительный крест с крестообразным углублением для частиц Истинного древа Креста. Среди древнерусских меднолитых энколпионов также встречаются экземпляры с крестообразными ячейками в средокрестье внутренней стороны створки, выделяемыми чаще всего рельефным бортиком.
Существует гипотеза, построенная на аналогиях с драгоценными крестами-ставротеками и подкрепляемая письменными источниками, о том, что и серийные меднолитые так называемые «сирийские» кресты-энколпионы с изображениями Распятия и Богоматери с евангелистами специально изготавливались для паломников как ставротеки. Ясно выраженная в лицевых изображениях этих энколпионов идея прославления Крестной жертвы Христа делает эту гипотезу весьма убедительной, но великое множество таких энколпионов, рассеянных по всему свету, в том числе находимых и на территории Древней Руси, требует некоторой корректировки. Обладание истинными частицами Истинного древа Креста было доступно не всякому городу и не всякому храму, не говоря уже о частных лицах. К тому же обрамлялась эта высшая реликвия со всей возможной роскошью подобающими случаю драгоценными материалами. По-видимому, часть меднолитых крестов-энколпионов, как «сирийских», так и древнерусских, принадлежавших представителям светской и церковной власти, а также монахам, паломникам, в редких случаях действительно могла служить ковчегом для частиц Крестного древа, как, например, древнерусский энколпион из епископского погребения в Гнезно (Польша) или из раскопок «Ветчаного города» во Владимире на Клязьме. Однако в массе своей серийные энколпионы рассматриваемого типа скорее всего содержали внутри так называемые «вторичные реликвии». Л. А. Беляев определяет их как «предметы, с мощами тесно соприкасавшиеся или соотнесенные». М. М. Манго относит к таким вторичным реликвиям масло в ампулах с надписью «Масло Животворящего древа из святых мест Христа», вывозившееся паломниками из Святой Земли, «т. е. масло, которым поливалось Святое древо». На Руси в период, когда фонд мощей собственных святых еще не сложился, а мощи святых вселенской церкви были труднодоступны, такие «соотнесенные» с источником культа реликвии должны были быть особенно актуальными. Эпизодическое поступление частиц Истинного древа и других святынь на Русь в конце XI—XIII в. подтверждается как летописями, так и сохранившимися до наших дней ставротеками и другого рода реликвариями. Отмечается письменными источниками и активная торговля реликвиями как в Византии, так и за ее пределами, особенно в эпоху крестовых походов. Об этом косвенно свидетельствует и текст новгородской берестяной грамоты конца XI—середины XII в., из которой следует, что «ЧЕСТНОЕ ДРЕВО», стоимостью «ПОЛОУПЯТЫ ГРИВНЫ» мог себе приобрести любой состоятельный горожани
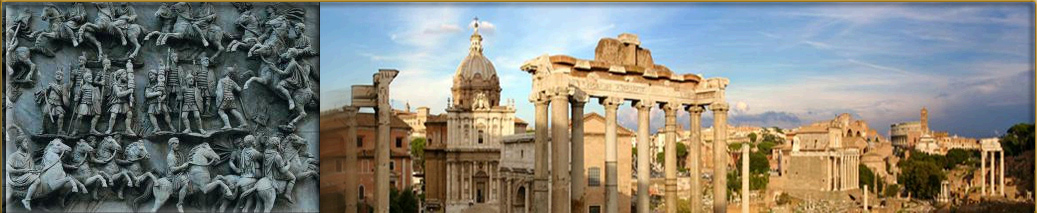









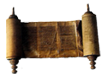







 Всё на продажу...
Всё на продажу... (ИМХО )
(ИМХО )








